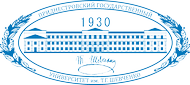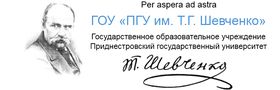Предполагаю, что большинство из нас и слыхом не слыхивали про какой-то пролин – одну из аминокислот, весьма важную для человеческого организма, в частности для синтеза коллагена, который, в свою очередь, необходим для здоровья соединительных тканей, включая кожу, суставы, хрящи и стенки сосудов. А уж знание его формулы (C₅H₉NO₂) – это уж явная «интеллектуальная роскошь». Но для химика-органика и биохимика, кандидата технических наук, доцента, преподавателя кафедры фармакологии и фармацевтической химии медицинского факультета Приднестровского госуниверситета, заслуженного работника ПМР Татьяны Панасюк эта формула стала «лакмусовой бумажкой» на профпригодность.
Когда в 2021 году, проводя лекцию в Приднестровском университете, ей не сразу удалось её вспомнить, Татьяна Евгеньевна решила: баста, пора на пенсию. Было ей в ту пору 85 лет, сейчас – почти 90. А проработала в нашем главном вузе она 63 года – рекордный срок даже для старожилов.
Татьяна Панасюк бережно хранит генеалогическое древо своей семьи, корни которого уходят в Польшу ещё времён Российской Империи. Среди предков героини нашего очерка были и люди науки. Сама Татьяна Евгеньевна родилась в 1936 году в Кишинёве, который, как и вся правобережная Молдавия, принадлежал тогда Румынии. Хотя её мама в своё время окончила румынскую гимназию, а отец родился в Херсоне, семья дома общалась на русском. В 1940 году Молдавия вошла в состав СССР. «Как у нас тогда говорили, пришли Советы», – вспоминает Татьяна Панасюк. Однако вскоре румынские оккупанты вернулись, уже рука об руку с немецкими нацистами. В 1942 году маленькая Таня пошла в румынскую (других не было) школу, где обнаружилось, что девочка не понимает ни сверстников, ни учителей. Разразился скандал, мать вызвали в школу, угрожали и строго-настрого запретили говорить с дочерью по-русски. «А я тем временем каждый божий день горько рыдала», – рассказывает Татьяна Евгеньевна.
Впрочем, девочка оказалась способной и язык освоила довольно быстро. Однако это не спасало от телесных наказаний, широко применяемых тогда в румынской системе образования. За малейшие проступки школьников били по рукам, ставили голыми коленями на горох, в туалет (извините за подробность) во время урока не пускали, а кто не выдерживал – что ж, пеняй на себя. Позор, злорадство, унижение процветали, особенно по отношению к бессарабским детям. «После войны, когда я пошла уже в советскую школу, там ничего подобного не применялось, что всех детей, прошедших румынские издевательства, конечно, очень обрадовало», – вспоминает Татьяна Панасюк. Между прочим, три её младшие сестры получили высшее образование и успешно трудились в Советской Молдавии, потом – в ПМР.
Конечно, не всё в первые послевоенные годы шло хорошо, взять хотя бы беспрецедентную засуху 1946 года, породившую страшную голодовку. Остались в памяти и неприятности, связанные с подозрительностью советских внутренних органов. Тем не менее в итоге всё обошлось, в Сибирь «злые русские» семью не сослали (лейтмотив современных учебников новой истории Молдовы). После школы Татьяна поступила на химический факультет кишинёвского госуниверситета. В её студенческие годы жаренная на домашнем сале картошка считалась таким пиршеством, что студенты слетались на её запах, как пчёлы на мёд. «Жили бедновато, трудновато, но не унывали. Веселились, как все молодые, и верили в светлое будущее», – отмечает Татьяна Панасюк. Сразу по окончанию вуза, последовав совету однокурсника, поехала в Тирасполь, где работы в те времена для химиков имелось предостаточно. «С моим образованием я была нарасхват: кроме пединститута, работала в НИИ сельского хозяйства, на консервном заводе им. 1 Мая, в городской санэпидстанции, где определяла качество поступающей из артезианских колодцев воды, а также проводила бактериологические анализы речной воды из Днестра», – вспоминает она.
В жизни эта женщина не только учила других, но и постоянно училась сама. Когда тираспольский учительский институт стал полноценным педагогическим вузом, там открыли биохимический факультет, а преподавателей направили на переподготовку в Москву. «Я была химикоморгаником, а биохимия – это несколько другое направление», – рассказывает Татьяна Панасюк. Чтобы получить недостающие знания, она в Москве стала завсегдатаем Ленинки (теперь Российской государственной библиотеки). Уже в девяностые, с открытием в ПГУ медицинского факультета, ей пришлось осваивать химию уже под «медицинским углом». «Иногда бывшие студенты признаются, что боялись меня. А я считаю, что боялись они не меня лично, а химии, поскольку это действительно очень сложная наука. Я всегда относилась к ней серьёзно, и студентов так учила, иначе какой смысл в учении?» – риторически спрашивает Татьяна Евгеньевна.
В браке с врачом-наркологом Алексеем Панасюком Татьяна родила сына Юрия (тоже ставшего врачом, но, к сожалению, рано ушедшего) и дочь Антонину, которая вышла замуж в США. Внуки и правнуки героини нашего очерка сейчас живут за пределами Приднестровья. Сын покойного Юрия Михаил тоже стал врачом-наркологом, но уже в Подмосковье. Татьяна Евгеньевна держит связь с детьми и внуками благодаря интернету, который она освоила во времена коронавирусной пандемии. В заключение отметим, что её эта опасная хворь миновала. Сегодня Татьяна живёт в доме на «опытной станции» ПНИИСХ, по соседству с сестрой Ольгой, работавшей там технологом. «Даже не думала, что под конец поселюсь на старом месте, где когда-то начинала свою молодую жизнь в Тирасполе», – признаётся Татьяна Панасюк. В этом есть символичность.
Газета №117 (7743) от 28 июня 2025 г.
Следующие материалы
- ПГУ: новая кафедра, абитуриенты и экзамены
- В ПГУ объявлен набор в магистратуру по специальности «Политология»
- ПГУ выпустил компьютерщиков и техников
- 5 причин поступить в ПГУ
- Приёмная кампания ПГУ. Что нового и какие перспективы у наших студентов
- Будущие журналисты защитили дипломные работы в ПГУ
- Абитуриентам ПГУ: направим и поможем
- В ПГУ ХОТЯТ УЧИТЬСЯ ЗА ДЕНЬГИ
Предыдущие материалы
- Сотрудничество ПГУ с техническими вузами стран СНГ обсудили в Москве
- Красиво, когда цифры сходятся
- Приднестровские студенты и стипендия мэра Москвы
- Утверждены получатели стипендии мэра Москвы
- В ПГУ НАУЧАТ РАБОТАТЬ С НЕЙРОСЕТЯМИ
- В Приднестровье смогут присуждать степени кандидатов и докторов наук
- Студенческий слёт: аэродинамические свойства картошки и НЛО в лагере «Содружество»
- МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ ДЛЯ БУДУЩЕГО?